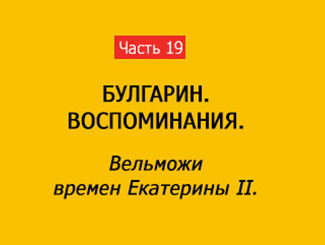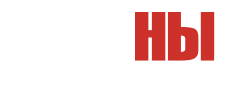Перехожу к важнейшей эпохе в моей жизни, имевшей влияние на всю мою судьбу.
По экзамену переведен я снова через класс, именно в третий верхний, из которого уже выпускали в офицеры, в армейские полки.
По всем частям баллы у меня были хорошие, и потому новые учителя приняли меня отлично. В этом классе уже преподавали статистику, физику и полевую фортификацию; первую, ученый и добрый Герман (скончавшийся в звании инспектора классов Смольного монастыря, и оказавший русской статистике большие услуги); вторую, Вольемут, бывший адъюнктом при знаменитом Крафте; третью молодой корпусный офицер, поручик нашей роты, Александр Христианович Шмит (ныне генерал-майор в отставке). Все они преподавали отлично и чрезвычайно занимательно. Статистику читал Герман по-французски, потому что весьма был слаб в русском языке.
Железников в это время стал прихварывать, и не мог заниматься во всех верхних классах, а потому, при сохранении всех окладов, ему оставили два первые верхние класса, а остальные отдали, по указанию Железникова, корпусному офицеру, поручику четвертой роты, Александру Андреевичу Лантингу.
С приятною наружностью, Лантинг соединял в себе необыкновенную доброту, нежность чувств и возвышенный ум. Он был поэт в душе, хотя и не писал стихов, и этим только отличался от незабвенного друга моего, Александра Сергеевича Грибоедова, с которым Лантинг был схож нравственно, как две капли воды. Лантинг и Грибоедов — это один ум и одна душа в двух телах! Если б они знали друг друга, они были бы друзьями и братьями. Лантинг даже манерами походил на Грибоедова. <…>
Лантинг жил сердцем в фантастическом мире, в мире добра, любви и поэзии, и на земле не нашел радостей. Он всегда страдал за других и за себя. Несправедливость и коварство людей проливали яд в его сердце, и он мучился, не будучи в состоянии помочь страждущим. Он любил… и ему изменили; прилепился душою к другу — друг оказался эгоистом! Мрачная меланхолия, как черная туча, покрыла его душу… Он искал рассеяния и утешения в любви детей, порученных ему Промыслом — и мы, дети, не изменили ему! Мы любили его при жизни, в наших детских летах; были преданы ему душевно в летах юношеских, и помним его состарившись! Лантинг, вскоре по выпуске моем, перешел в адъютанты (в капитанском чине) к генералу Кноррингу, ранен тяжело в первую турецкую войну, при императоре Александре, и умер от ран в Бухаресте. Памятник его в сердцах его питомцев, постигших его духовное величие!
Русская словесность расцвела при императоре Александре, под его благотворным влиянием, на плодоносной почве, возделанной императрицею Екатериною II. Жесткие формы, в которых был сжат наш богатый и звучный язык, сокрушились под пером Н.М. Карамзина, М.М. Сперанского, Василия Сергеевича Подшивалова, Ивана Ивановича Дмитриева, Михаила Никитича Муравьева, Василия Андреевича Жуковского. Вся литературная деятельность сосредоточена была тогда в Москве, под сенью знаменитого тогда университета. Там составлялись законы для языка и слога; там уже издавался «Вестник Европы», Н.М. Карамзиным, «Московский Меркурий», Петром Ивановичем Макаровым. Карамзин увлекал всех своим языком; Макаров предостерегал и поучал своими сильными и остроумными критиками, устремленными против бесталантных подражателей новизны. Как благодетельной росы ожидали мы, в Петербурге, каждой книжки «Вестника Европы», читали, перечитывали и изучали каждую статью! Блистательные примеры возбуждали в нас охоту к изучению языка и страсть к авторству… Наставники наши поощряли нас и руководствовали.
Удивительно, как в каждой массе людей, обязанных жить вместе и действовать по одним правилам, например, в полках и учебных заведениях, долго держится дух, однажды утвердившийся каким-нибудь необыкновенным событием!
Так в Сухопутном Шляхетном, а после в Первом кадетском корпусе преобладал дух литературный над всеми науками. В этом корпусе, как известно, возникла русская драматургия.
Кадет Сумароков, современник Ломоносова, первый из русских начал писать трагедии и комедии, по образцам французских классических писателей, и первые русские актеры были также кадеты.
В корпусе был устроен театр (1745 года), существовавший до директорства Кутузова, и кадетская труппа играла даже при дворе, в присутствии императриц Анны Иоанновны и Елисаветы Петровны.
Танцевальный учитель Ланде составил характеристические танцы, которые исполняемы были кадетами, в костюмах, в присутствии высочайшего двора, и это подало мысль к учреждению балетной труппы, под руководством Ланде.
Внимание двора к русской литературе, слава Сумарокова и русский театр в корпусе, утвердили в кадетах любовь к русской словесности и отечественному языку, и эта любовь, поддерживаемая искусными преподавателями, каковы были Яков Борисович Княжнин и ученик его, Петр Семенович Железников, сделалась как бы принадлежностью корпуса, и переходила от одного кадетского поколения к другому, даже до моего времени. Кажется, после дух этот ослабел, или даже вовсе иссяк, когда в 1812 году и в последующих годах, по надобности в офицерах, выпущены, в одно время, почти все взрослые и, так сказать, унесли с собою все предания. <…>
«Какая польза в учености, в познаниях, если человек не может употребить их в дело, не умея объяснить или передать того, что у него в голове!»
— говорил Лантинг. «Безграмотный то же, что глухонемой. Чем живут Рим и Греция? Писателями! — Катул, Римник важнее Фермопил и Марафонской битвы, и переход Суворова через Альпы затмевает славу Аннибала; но подвиги древности кажутся выше, потому что изображены красноречиво. Безбородко, бедный армейский офицер, стал известен государыне по реляциям, которые он сочинял, и Безбородко стал графом и канцлером! Не каждому дан авторский талант, не каждого природа создала поэтом; но каждый может и должен уметь излагать мысли свои правильно, ясно, даже красноречиво, и для того надобно изучать язык и его грамматику, разбирать писателей, замечая в них хорошее и отвергая дурное, и беспрерывно упражняться в сочинениях…»
Так говорил Лантинг, и упражнял нас в грамматических и эстетических разборах русских писателей и в сочинениях, на заданные им темы. Тех кадетов, которые никак не могли ничего выдумать, он заставлял переводить с французского и с немецкого языков, чтоб приучить их к слогу.
Однажды, в какую-то горькую минуту, когда черная мысль промелькнула в голове Лантинга, он задал мне сочинение, взяв за тему стихи из псалма Давидова: «на реках Вавилонских тамо седоком и плакахом». Я сознался ему, что не заглядывал в псалтырь, и он велел прийти к нему, на квартиру, за книгой. Взяв псалтырь, я уединился, и стал читать заданный мне текст. При этом должен я заметить, что изучение церковного и, так называемого, славянского языка в наше время почиталось необходимостью для познания языка русского, во всей его силе, и нам, с кафедры, толковали красоты Св. Писания и наши древние летописи. Перечитывая псалом, который долженствовал служить мне руководством к сочинению, я почувствовал, внезапно, как будто какое-то сотрясение в сердце…
Мне стало грустно, я заплакал! Не было свидетелей слез моих.
В уме и в душе моей ожили воспоминания детства: представились моему воображению родители, любимые мною слуги, родные поля и леса, и наконец мое сиротство, мои страдания без всякого соучастия в ближних, существование без любви, без ласки…
Как будто в лихорадке схватил я перо, и стал писать… Слезы и чернила лились на бумагу. Исписав несколько листов, я свернул их, и, не перечитывая, положил под матрац моей постели. Явившись в класс, я представил Лантингу вверенную мне книгу и мое сочинение, и сказал: «Простите великодушно, если найдете тут ошибки и недописки. Я написал сгоряча, и признаюсь, не имел духа прочесть… Эта тема слишком тяжела для меня!» Лантинг стал читать про себя, и я не спускал с него глаз. Я заметил, что сперва легкий румянец выступил на его бледном лице, а потом глаза наполнились слезами.
Положив бумагу мою в карман (чего никогда не делал он прежде), Лантинг подозвал меня к себе, обнял, крепко прижал к сердцу, поцеловал и сказал:
«Ты не сирота, пока я в корпусе! Я заступлю тебе место отца, матери и друга!»
Он велел мне приходить к себе на квартиру, во всякое время, свободное от кадетских обязанностей.
С этих пор началась для меня новая жизнь. Сердце мое жаждало ласки, участия, сострадания; ум требовал советов и руководства; врожденная благородная гордость (то, что мы называем амбицией), так сказать, задушала меня, не встречая никакого внимания и удовлетворения всем моим желаниям, всем потребностям души, и все чего я жаждал, нашел я в Лантинге и нашел в то время, когда уже мог понимать высокую цену всего этого, когда наиболее нуждался в этом, когда ум мой, как слабый стебель цветка, требовал подпоры, и рано развившаяся в сиротстве душа замирала без теплоты и света! О, как пламенно полюбил я Лантинга! Я за него дал бы себя изрезать на части, бросился бы в пламя!
Он был более нежели добр с кадетами, был, как говорится, слаб, никогда сам не наказывал и не жаловался старшим, и оттого часто подвергался неприятностям.
Тех кадет, за которых Лантинг получал выговор, и кадет, оскорблявших его неприличными ответами, грубостью, я почитал личными моими врагами, и, по-кадетски, вызывал на дуэль, т.е. на драку, не смотря ни на рост, ни на силу!
Весьма часто меня порядком проучали за это и даже, при победе, я часто должен был подвергаться наказанию; но мне приятно было страдать за обожаемого мною наставника, который журил меня за мою драчливость, не зная и вовсе не подозревая, что я сражался за него и за него подвергался наказаниям! Не боюсь, чтоб враги мои уличили меня во лжи, если скажу, что в течение всей моей жизни я почитал, почитаю и буду почитать первою обязанностью вступаться за друга и благодетеля… А иначе что же будет значить дружба и благодарность? Случалось со мною, что вместо признательности (которой я никогда не требовал), по крайней мере, вместо сознания моего самоотвержения, мне платили даже холодностью и горьким упреком: «а кто тебя просил!» Тяжело было на сердце, но я не исправился и не исправлюсь. В сатирах, которыми меня удостаивают наши русские писатели, меня называли даже собакою! Пусть будет так. Правда, собака бросается на обидевших ее господина, и эта собака лучше мудрого эгоиста; а дружба и благодарность должны господствовать в сердце. Дети мои, это урок для вас!
К Лантингу собиралось много кадетов, по знакомству его с их родственниками. Особенно поручены ему были братья Тагайчиновы (вышедшие в артиллерию), которые имели в его квартире отдельную комнату. Тут собирались для отдохновения от кадетского шума унтер-офицер Бринкен (курляндец), братья Берниковы (вышедшие лейб-гвардии в Семеновский полк) и некоторые другие;
но истинно родительское попечение Лантинг имел обо мне одном, давал мне книги для прочтения, и заставлял делать разборы, т.е. сообщать ему мое мнение о прочитанном, с отметками того, что мне нравилось или не нравилось.
Потом он рассматривал мои разборы, подтверждая или опровергая мои мнения риторически, эстетически и философически. Таким образом прошел я с ним Древнюю историю, историю Греции и Рима и новые события до Французской революции включительно, прочел Путешествие Анахарсиса по Греции и Азии, сочинение Бартелеми и много других книг. Кадетам верхних классов позволялось ходить в корпусную библиотеку, и, по рекомендации Лантинга, библиотекарь наш, Г. Фолар, позволял мне брать книги в роту. Это было для меня великое блаженство. Я был, как рыба в воде! При чтении я упражнялся в переводах с французского и немецкого языков.
Начальные основания латинского языка я приобрел у Цыхры — и Лантинг, который очень хорошо знал латинский язык (брав частные уроки), занимался со мною, в свободные минуты, переводами с латинского и грамматикой, для собственной забавы, как он говорил тогда. Но главнейшую пользу для моего образования извлекал я из бесед его. Тут открывались передо мною в живых картинах древний и новый миры, с их духовною жизнию, и чудеса природы в творениях Создателя! А будущность — она казалась блистательною зарею, обещавшею красный день!
Кроме книг, служивших к моему образованию, я читал — нет, не читал, а глотал романы и повести, т.е. все, принадлежащее к изящной словесности или беллетристике. <…>
Часто говорил нам Лантинг: «Бюффон произнес великую истину, сказав: le style — c’est 1’homme (слог — это человек). Можно научиться писать правильно, так что ваше сочинение будет без задоринки, гладко, хоть шаром покати, но в то же время оно может быть холодно, как гладкий, прозрачный и блестящий лед! Можно, с усилием ума, приобрести механизм, но никакая наука не может научить, как сообщается слогу движение, жизнь, одушевление, легкость, летучесть… Все это проистекает из ума и из души человека…» По слогу, говорил Лантинг, не с кафедры, а у себя дома: по слогу я узнаю человека! Напыщенность, надутость, аффектация, изысканность, тяжесть, растянутость, водянистость, холодность слога, точно так же как и противоположности его: живость, пламенность, сила, движение, естественная простота и ясность, суть верные отпечатки характера автора — зеркало его души!
Совершенная правда. <…> Еще с первых юношеских летах я не принимал разделений слога на простой, средний и высокий, и на размеры его, сообразно предметам, и осмеливался даже спорить с обожаемым мною наставником, утверждая всегда, что человек должен описывать все, простое и высокое, по внушению своего ума и чувства, описывать, как ему представляется, не изыскивая слов и не подбирая их умышленно, для эффекта. <…>
Страсть к авторству беспрерывно усиливалась во мне.
Это было не желание славы и известности, не жажда похвал, одним словом, не напряжение тщеславия и самолюбия, этих мелких несносных страстишек, которые квакают, как лягушки в болоте, чтобы обратить на себя внимание, пока аист критики не пришибет их. Нет, во мне было непреодолимое влечение излить чувства и мысли мои, которые, так сказать, угнетали мой малый умишко и мое юношеское сердце.
Начитавшись, наслушавшись и раздумав, я приобретал свои понятия о многих вещах, свой взгляд на предметы, часто не согласные с тем, что я читал и чему меня учили.
Между серьезными историческими работами, между упражнениями в переводах и отчетах о прочитанном, для упражнения разума, я писал басни, сатиры, начинал поэмы, комедии, и все эти отрывки расходились по корпусу…
Я прослыл сочинителем. Этим я, как водится, приобрел друзей и врагов.
Все это точно так же, как в свете. Некоторые из моих добрых товарищей до сих пор сохранили корпусные мои сочинения, и еще в текущем 1845 году, генерал-майор Аполлон Никифорович Марин дал мне басню моего сочинения, которая в то время была представлена братом его, Сергеем Никифоровичем, великому Державину, и им письменно одобрена. Другие из моих товарищей даже сохранили в памяти некоторые из корпусных моих стихов. Не привожу ничего из этих детских произведений… это были только вспышки.
Укрепившись разумом, я понял все величие поэзии, и отказался от стихов. Стихотворство то же, что игра на скрипке: кто не может играть так, как Паганини или Липинский, тот не должен играть в публике.
Отрывок подготовлен к публикации С. Л. Луговцовой.
ПОЛНЫЙ ТЕКСТ «ВОСПОМИНАНИЙ» Ф. В. БУЛГАРИНА МОЖНО ПРОЧИТАТЬ ЗДЕСЬ.