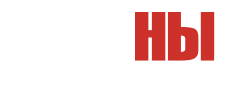Наконец настал день, назначенный для визитеров. Я нанял карету четвернею, одел лакея в ливрею с галунами, и мы пустились в путь.
Дорогою Миловидин сказал мне: «Начнем с посещения с графини Протрубиной. Это запевала между московскими старухами: по ее камертону воет полсотни крикуней, и этот хор составляет репутацию молодых людей, а особенно молодых супругов. Вот дом ее: видишь ли, сколько здесь карет перед крыльцом? Не так опасно прогневить начальство, как этих гарпий, которые за малейшее упущение готовы растерзать добрую славу порядочного человека».
<…> Графиня, старая женщина, сидела, скорчившись на софе, обложенная подушками, вышитыми по канве ее внучками и воспитанницами. Под ногами была также огромная вышитая подушка. На коленях ее покоился шпиц, высунув голову из шали. Перед ней на столике стояли фарфоровые чашки с визитными билетами, табакерка и колокольчик. Кругом в креслах сидело несколько дам и мужчин.
– Здравствуйте, тетушка, — сказал Миловидин, поцеловав у нее руку.
– Откуда, батюшка? — спросила графиня, подняв голову и смотря пристально на Миловидина.
– Из далеких стран, тетушка, и первым долгом почел явиться к вам.
– Спасибо, что не забыл.
– Позвольте, тетушка, поручить вашему покровительству друга моего, белорусского помещика, Ивана Ивановича Выжигина, которому я весьма много обязан.
Графиня посмотрела на меня и кивнула головою, а я поклонился.
– Милости просим: мы рады добрым людям. Прошу садиться. Что, ты один в Москве или с женою? — спросила графиня.
– Один, тетушка; жена моя осталась за границею, по слабости здоровья.
– Тем лучше, что ты один. А где служить изволите? — сказала графиня, обращаясь ко мне.
– Я теперь только намереваюсь вступить в службу, — отвечал я, — и по сие время занимался науками.
– А, из ученых! Понимаю, — примолвила графиня, понюхав табаку. — А много ли за вами душ? — спросила она.
Миловидин не дал мне отвечать и сказал:
– Полторы тысячи.
– А много ли детей у родителей? — спросила графиня.
– Он один и — сам хозяин, — отвечал Миловидин.
– Не дурно, — проворчала графиня, снова понюхав табаку.
Я посмотрел на других гостей и заметил, что матушки подталкивали дочек и дочки выпрямливались, поднимали глаза, опускали взоры, склоняли грациозно голову на плечо, а те, которые имели хорошие зубы, улыбались.
– Полторы тысячи душ для одного человека довольно изрядно, — сказала про себя графиня, потирая свою табакерку.
– Как бишь фамилия, извините?
– Иван Иванович Выжигин, — повторил громко и протяжно Миловидин.
Я снова заметил, что все гостьи шевелили губами, как будто повторяя для памяти мое имя. <…>
– Дело сделано, — шепнул мне Миловидин. — Теперь все запоют на одну ноту. <…> … мы были приглашены с первого визита ко всем всякий день обедать и каждый день на вечер. В полчаса я сделал одиннадцать знакомств. <…>
– Все вы говорили, что из моего внука Коко не будет проку, — сказала графиня Миловидину, — а мы его пристроили порядочно. Он при особых поручениях при князе Связине в Петербурге, и уже титулярный, да в нынешнем году получил крестик за поездку в Москву, с каким-то секретарем или прокурором на следствие. Жаль, что он приехал сюда по окончании следствия, а то бы еще схватил что-нибудь. Мы прочим его в камер-юнкеры. Князь Связин теперь в силе, а он мне свой человек. На днях отправляю к нему внука моего, Жака, сына несчастного Благородова, который, говорят, с ума сошел от книг, поселился в деревне и отказался от чинов. Жак, слава Богу, не в отца. Прекрасный молодой человек, хочет служить в Иностранной коллегии и мастер своего дела. На мои именины сочинил по-французски куплеты на двух листах, которые пропели три мои внучки.
На последнем бале всех удивил мазуркою, и, кроме того, весьма учен: как сказывают, знает орфографию и мифологию! Из него будет человек!
Но за то про тетку его, графиню Никодим, говорят очень дурно. Я не люблю повторять дурных вестей; но говорят, что она имеет связи… понимаешь? Она перестала ко мне ездить: Бог с ней! Да и бывший губернатор, твой родственник, Доброделов, также перестал ездить ко мне. Даром, что приятели провозглашают о его честности, да не все верят. Уж кто в дом ко мне не ездит, так верно тот чувствует за собою какую-нибудь вину. Я не люблю оговаривать, а знаю кое-что!— Графиня стала нюхать табак и собиралась еще рассказывать про всех своих родных и знакомых, но Миловидин воспользовался минутою молчания, встал, и мы вышли из комнаты.
– Сохрани Бог, попасться ей на язык, — сказал Миловидин, садясь в карету. — Она присвоила себе право владычества над четвертою долею московского общества, и кто только отдаляется от нее и не хочет идолопоклонничать, с тем поступает она, как с дезертиром, отдает под свой бабий суд, произносит сентенцию и, в наказание, лишает доброго имени. Языком своим и связями она сделалась страшною для многих лиц, занимающих важные места, и они должны исполнять ее желания, чтоб избегнуть клеветы и всякого рода козней. <…>
Мы подъехали к большому дому, и Миловидин сказал: «Теперь я познакомлю тебя с одним из коноводов московских стариков, которого имя произносится с таким точно уважением, как некогда дельфийского оракула. Антип Ермолаевич некогда занимал важное место, и хотя дела при нем шли точно таким же порядком, как и всегда,
но он уверен, что с тех пор, как он вышел в отставку, солнце слабее согревает Россию, луна не так ярко светит и отечество на краю гибели.
Все, что только делается внутри и вне государства, почитает он дурным и говорит, что он присоветовал бы сделать лучше, хотя, по несчастию, он ничего не сделал хорошего в жизни, кроме того, что вышел в отставку. По словам его, кроме покойных его приятелей и покровителей, не было способных людей в России».
Нас приняли. Антип Ермолаевич был в своем кабинете. Он сидел в больших креслах, в зеленом бархатном шлафроке, опушенном соболями и украшенном двумя звездами.
– А, старый приятель, где пропадал? — сказал он Миловидину.
– Путешествовал и, возвратись в Москву, первым долгом почел явиться с почтением к вашему превосходительству.
– Спасибо, спасибо, дружок!
– Позвольте представить вам моего приятеля, Ивана Ивановича Выжигина, русского дворянина, имеющего полторы тысячи душ в Белоруссии. <…>
– А вы где служите?
– Я теперь только хочу определиться к месту.
– Какая теперь служба! — воскликнул Антип Ермолаевич. — Теперь выдумали везде штатные места, и порядочному человеку негде приютиться. Не правда ли?
– Точно так, ваше превосходительство, — сказал Миловидин, и я повторил за ним то же самое.
– Однако ж и ныне есть места для особых поручений, — примолвил Миловидин.
– Да ведь в том дело: при ком состоять для особых поручений! Не правда ли?— сказал Антип Ермолаевич. — Те ли вельможи были в наше время, что ныне? Не правда ли? Бывало, придешь к вельможе: он лежит себе в халате на диване да перекачивается, а перед ним стоят стрункою князья, графы и генералы и ожидают сигнала плакать или смеяться. Не правда ли? А ныне сам вельможа не смеет присесть, не посадив других; принимает даже просителей в мундире и подчиненного иначе не назовет, как вы, да еще по имени и отчеству. <…> Я рассказывал моему племяннику анекдот, что один вельможа, в мое время, представил своего секретаря к награде 200 душ крестьян. На доклад соизволения не воспоследовало, и вельможа подарил секретарю 200 душ своих собственных. Что ж бы вы думали сказал на это мой племянник? Он отвечал: что если б он был на месте секретаря, то не взял бы 200 душ от вельможи, потому что служит государю, а не вельможе и от одного государя может получать награды. Вот каковы нынешние! <…>
– Как нам нельзя воротить золотого века, — сказал я, — то надобно подчиниться обстоятельствам, и я прошу, ваше превосходительство, взять меня под свое покровительство.
– Посмотрим, посмотрим. Бывшие у меня писцами занимают ныне важные должности. Однако ж посмотрим. Я увижусь, переговорю. Но ведь ныне завелся какой-то штиль. Требуют, чтоб канцелярские бумаги были писаны складно, как песенки, а притом и кратко, и ясно, и отчетисто. <…> То ли дело, бывало, как накинут на тебя дело в три тысячи листов об украденной курице и разбитом окне, так изволь-ка ломать голову да выводить заключения? Поневоле приучишься к делам. Не правда ли?..
В это время лакей доложил, что частный пристав просит позволения войти. <…> Мы откланялись и вышли, получив позволение быть каждый день на обеде и на вечере. <…>
– Уволь! На нынешний день будет довольно.
– Нет, еще один визит; но этот будет приятен. Я повезу тебя к моей милой кузине, в которую целая Москва влюблена, и она, право, стоит этого.
– Ах, mon cher Александр!
– Ах, ma cousine Annette!
Пошли обнимания и целования, и Миловидин, сев на софе с хозяйкою, стал шептаться, перешептываться и забыл обо мне. <…>
– Милая Анета, — сказал Миловидин. — Я рекомендую особенной твоей милости и покровительству друга моего, благодетеля, спасителя и все, что угодно, Ивана Ивановича Выжигина, который, кроме того, что хорош собою, как ты видишь, умен и добр, как ты и я, имеет полторы тысячи душ.
– Charmee…
– Полно, милая, пожалуйста без церемоний, — возгласил Миловидин. — Помни, что это другой я. Послушай, дело в том, что я хочу друга моего поместить в службу и ввести в лучшее московское общество.
У тебя большая партия, кузинушка. Пожалуйста, покричи с недельку за моего друга.
Ты можешь смело уверять всех, что он точно таков, как я, а ты некогда была уверена, что я мил до крайности. <…> Кузина пригласила нас также каждый день обедать и каждый день на вечер.
Отрывок к публикации подготовила Е. В. Воднева.
ПОЛНЫЙ ТЕКСТ РОМАНА Ф.В. БУЛГАРИНА «ИВАН ВЫЖИГИН» (1829) ЧИТАТЬ ТУТ.